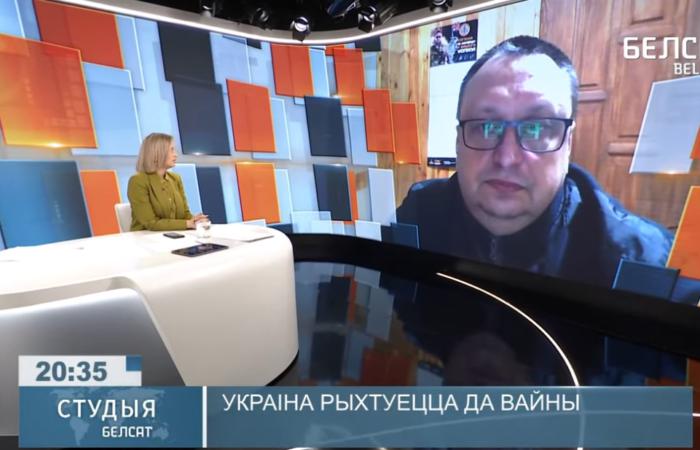Луканомика: скрытые механизмы "беларуского экономического чуда"
Первый и пока единственный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко долгое время создавал себе образ рачительного хозяина, который, в пору лихолетья 90-х, сумел сохранить заводы от грабительской приватизации, развить АПК и провести успешную борьбу с коррупцией. Однако в последнее время имидж мудрого экономиста-управленца все чаще вызывает сомнения: пресловутый беларуский порядок держится на преданности силовых структур, стабильность — на миллиардных вливаниях России, а значимая доля ВВП, приходящаяся на частный сектор, — существует скорее не благодаря, а вопреки экономической политике Лукашенко.
Быстрый рост 90-х и партнерство с Россией
Финансист, эксперт программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан метко подметил, что у Беларуси есть один «удивительный ресурс» — Россия. Лукашенко вовремя оценил потенциал экономической дружбы с соседкой и еще на заре своей политической карьеры открыто призывал беларусов «на коленях ползти» в сторону Москвы. В Златоглавой порыв оценили, и вот уже на протяжении двадцати лет Беларусь и Россия строят Союзное государство.
Несмотря на то, что за эти десятилетия страны так и не пришли к конкретике по многим важным вопросам, республика прочно привязалась к российскому рынку и получила максимум выгоды от такого сотрудничества. Все это время Беларусь пользовалась дешевой, по сравнению с мировым уровнем, энергией и упрощенным доступом на развивающийся российский рынок.
В разные годы поддержка России достигала от 11% до 27% беларуского ВВП. По оценкам МВФ, за период с 2005 по 2015 год совокупные дотации беларуской экономике от России составили $106 млрд. Эта сумма складывалась из кредитов, прямых инвестиций и беспошлинных поставок нефти. Во многом благодаря этой помощи уже во второй половине 1990-х республика показывала лучшие результаты по сравнению с Россией и Украиной: с 1995 по 2000 год ВВП Беларуси снизился на 24% в текущих ценах, в то время как российский упал на 35%, а украинский — на 35,7%.
Однако успехи Беларуси конца 1990-х – начала 2000-х можно объяснить не только поддержкой РФ. Экономика страны и до прихода Лукашенко чувствовала себя гораздо лучше российской. С 1990 по 1994 год ВВП Беларуси сократился «всего» на 19% — с $19,5 млрд до $15,7 млрд. Для сравнения: за этот же период Россия потеряла 28%, а Украина — все 40% ВВП.
Золотое время экономики Беларуси пришлось на докризисные нулевые. Начиная с 2000-х, за восемь лет ВВП страны увеличился в 5,8 раза: с $10,8 млрд до $62,8 млрд. Завидный рост остановил военный конфликт РФ и Украины 2014 года, произошедший одновременно с обрушением цен на российскую нефть.
Экономический кризис соседки отразился на Беларуси даже больше: в 2015 и 2016 годах экономика РБ упала на 3,8 и 2,5%. В России же соответствующие показатели были следующими — снижение 2,3% и рост 0,33%. Вернуться на прежний уровень благосостояния Беларуси не удалось: в номинальных ценах ВВП на душу населения в 2019 году составил $6 604, что соответствует уровню 2008 года.
Материальная помощь Москвы не была бескорыстной ни в 90-х, ни сейчас. Как отмечает старший экономист Raiffeisen Bank International по Центральной и Восточной Европе Андреас Швабе, «финансово-экономическая поддержка России обменивается на определенную степень политической лояльности со стороны Беларуси». Стоит странам разойтись во взглядах — и Россия тянется к газовому и кредитному вентилям. Так, в 2011 году в ходе «газовой войны», не выдержав давления российских ограничений и обострившихся на их фоне проблем в национальной экономике, Лукашенко пришлось продать России «Белтрансгаз» — один из козырей в белорусско-российских переговорах.
Со временем Москва стала настойчивее требовать более глубокой интеграции взамен на помощь. В свою очередь Лукашенко не спешит сдавать суверенитет и расставаться с властью. Продолжая интеграционные игры, он жонглирует заявлениями о дружбе с Россией: от «Ключевой приоритет Беларуси остается неизменным — развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия» до «...мы — суверенное и независимое государство. ... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении». Такое непостоянство в риторике не остается незамеченным Кремлем и приводит к постоянному закручиванию гаек российской стороной.
Экономика по-беларуски
За время правления Лукашенко экономика в стране приобрела специфический и даже уникальный вид. Плановые методы регулирования и фактический отказ от приватизации, которые в 90-х помогли избежать многих ошибок, допущенных в Украине и России, теперь делают ее хрупкой и негибкой.
Экономическое правительство Беларуси часто козыряет сохранением наследия СССР, особенно таких гигантов, как МАЗ, Минский тракторный завод (МТЗ) и БелАЗ, подчеркивая разницу в экономике 90-х и ставя себе в заслугу развитие производства.
В июле 2020 года Лукашенко говорил: «Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня — небо и земля. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского НПЗ, "Гомсельмаша", других крупных заводов крутились сотни жуликов. Предприятия нашей страны были уже разделены, все было поделено».
Если перечисленные предприятия действительно удалось сохранить, то объемы производства советских времен — нет. Например, Минский подшипниковый завод в 1987 году выпустил 55,5 млн подшипников. К началу 2010-х их производство снизилось в 10 раз, а к 2020 году — еще в 5. Известный столичный «Мотовелозавод», выпускавший по 700-800 тыс. велосипедов «Аист» и по 200-250 тыс. мотоциклов «Минск» в год, к настоящему времени признан банкротом и сейчас ликвидируется.
«Гомсельмаш» — некогда крупнейший в мире завод по производству комбайнов — стал жертвой введенного Россией утилизационного сбора, обнулившего все преимущества, которые давала дешевая беларуская рабочая сила. Предприятие снизило производство в три раза по сравнению с советскими показателями, продолжает сокращать персонал и остается убыточным. В 2019 году «Гомсельмаш» принес беларуской экономике $15 млн убытка при высокой закредитованности. С 2018-го правительство пытается найти инвесторов, способных поддержать жизнь в гиганте, однако сумма продажи — $500 млн — выглядит завышенной, и претендентов на завод нет.
Картина с сельским хозяйством, на которое по итогам 2019 года пришлась шестая часть экспорта, тоже не выглядит идиллической. Наряду с заводами, аграрный комплекс Беларуси стал очередной «черной дырой» для экономики.
Провал сельхозсистемы связан с тем, что АПК Беларуси работает по советским лекалам: аграрии продают произведенную продукцию государству по закупочным ценам, которые в свою очередь определяются правительством. Местные власти диктуют, что и в каком количестве необходимо производить. Зато колхозы и совхозы получают дешевые горюче-смазочные материалы и удобрения.
С такой системой управления к 2016 году убыточных предприятий в аграрной сфере стало вдвое больше, а их рентабельность составила -2,5%.
Частный сектор, которому не рады
«Частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие Беларуси. Он формирует свыше 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны, обеспечивает рабочими местами половину наших граждан», — говорит Александр Червяков, министр экономики РБ.
По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, в 2018-м удельный вес платежей в бюджет от негосударственного сектора составил 47,9%. Налогами государство получило 24,825 млрд беларуских рублей. К 2019 году занятость на частных предприятиях составила 44,7%, что на 6,9% выше, чем в 2012-м.
Этот сектор обеспечивает и львиную долю экспорта. В 2019 году на частные и иностранные компании приходилось 56,4%. Доля государственных предприятий равнялась 20%. Остальные 23,6% закрывали нефтепродукты и калий.
При этом частникам в стране не рады. В 1995 году Лукашенко озвучил свою позицию по вопросу бизнеса в Беларуси: «Через несколько лет я пожму руку последнему предпринимателю… Предприниматели — это вшивые блохи, от них надо избавляться».
Рост вопреки кризису
Замминистра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич отметил рост показателей в 2021 году: «По итогам пяти месяцев ВВП увеличился на 3,1%. Причем это качественный рост, обеспеченный на сбалансированной основе. Восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находятся в зоне роста. Главный драйвер — промышленность, показавшая рост более чем на 11%. Что важно, подъем промышленности обеспечивается не пополнением складов. Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне с 2013 года».
И действительно, положительная динамика налицо. Сейчас внешние факторы позитивно влияют на ВВП Беларуси, хотя принятые ЕС секторальные санкции ставят под вопрос будущее промышленного экспорта страны.
Скачок в экономике также обусловлен ростом экспорта. В 2020 году бюджет в основном наполнялся благодаря полезным ископаемым, сигаретам и алкоголю — тем отраслям, где спрос внешний или неэластичный. На них почти не влияют ни экономические институты, ни внутренняя конъюнктура, ни инвестклимат.
Удерживать экономику на плаву помогает и то, что пандемия COVID-19 не так сильно отразилась на Беларуси, как на других государствах, вводивших ограничительные меры. В то же время, если последствия для ВВП от коронавируса минимальны, то в политическом плане бездействие властей обернулось сильнейшим кризисом. Как известно, Беларусь остается единственной страной, не опубликовавшей данные по смертности за 2020 год.
Внутренние факторы не дают поводов для оптимизма: спрос медленно, но падает; экономические ожидания предприятий и населения негативные. Да и зависимость «эффективности» белорусской экономики от рынка сбыта и денежных вливаний России не добавляют стабильности.
История учит, что управление должно соответствовать эпохе. Экономические подходы, исповедуемые Лукашенко, помогли сохранить стабильность в 90-е, однако привели к стагнации в 2010-е и не соответствуют современным вызовам в 2021-м.